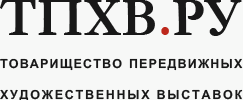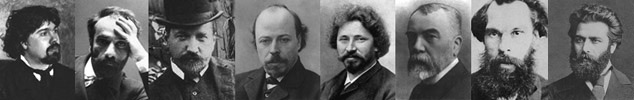|
Зограф Н.Ю. "К вопросу об эволюции искусства передвижников в 1880-1890-е годы"
Отечественная искусствоведческая наука широко и достаточно всесторонне раскрыла историческое и художественное значение искусства передвижников.
Теперь уже оставлен тезис, бытовавший еще сравнительно недавно, что главная, если не исключительная заслуга передвижников, то новое, что они внесли в русское и мировое искусство, - в развитии бытового жанра, воспроизведении современности во всем многообразии ее больших и малых проявлений.
Выставки передвижников, организованные в связи со столетием "Товарищества", еще раз подтвердили односторонность такой точки зрения. Жанр, картина на современную тему, действительно сыграл у передвижников (особенно на первом этапе) очень существенную роль.
Но главное, что их вдохновляло, как справедливо писал А.А.Федоров-Давыдов (в его посмертно опубликованной статье в журнале "Творчество"), - понимание искусства как общественного служения, моральная требовательность, гуманистическое утверждение достоинства человека.
Передвижники - каждый в своем жанре и в меру своего таланта - стремились раскрывать сложные и противоречивые стороны русской жизни, звали от мелочных забот повседневности к выполнению нравственного долга в борьбе против социального зла и насилия над личностью, будили совесть.
В этом объединились и жанристы, и мастера психологического портрета, и художники, обращавшиеся к большим историческим и философским темам. Особенно очевидно эта, так сказать, глубинная суть искусства передвижников раскрывается в их творчестве в течение 80-х годов, десятилетия, справедливо считавшегося временем кульминации демократического реализма в русской живописи.
В это время в живописи передвижников совершаются существенные сдвиги. В идейной и стилистической эволюции русского искусства этот период может рассматриваться в определенном смысле как поворотный, подводящий итоги достигнутому, открывающий путь в будущее, поставивший ряд новых и сложных творческих проблем.
В предлагаемой статье мы, разумеется, отнюдь не претендуем на сколько-нибудь всестороннее рассмотрение относящейся сюда исторической и художественной проблематики. Обратим внимание лишь на некоторые, с нашей точки зрения, существенные тенденции, которые характерны для названного Этапа.
Новые тенденции в искусстве с особой отчетливостью наблюдаются, естественно, у наиболее крупных мастеров - таких, как И.Е.Репин, Н.Н.Ге, И.Н.Крамской, В.И.Суриков и В.Д.Поленов. Однако творчество не всех перечисленных здесь художников станет предметом нашего особого рассмотрения.
Мы не будем касаться Сурикова с его специфической проблематикой исторического живописца, а также творчества художников-пейзажистов; хотя и здесь можно отметить черты, сближающие их с общим процессом развития живописи на рубеже 80-90-х годов.
Все названные мастера по своим конкретным творческим устремлениям очень разнятся друг от друга, у каждого из них свои собственные замыслы и свои собственные творческие решения. Достаточно сопоставить два таких имени, как Репин и Ге.
Но как бы ни были существенны эти различия, в искусстве крупных мастеров отчетливо выявляются общие тенденции, общие закономерности идейно-художественной эволюции.
Именно они, эти крупнейшие живописцы, определили совершающиеся в русском искусстве сдвиги, в то время как ряд художников, в свое время ведущих, остался на уровне творческой проблематики 70-х годов, и в их произведениях все чаще проглядывало стремление чисто внешне примкнуть к новому стилистическому движению.
Ф.М.Достоевский в "Братьях Карамазовых" устами Ивана Карамазова говорит: "Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? О чем они будут рассуждать, пока поймали минутку?.. О мировых вопросах, не иначе: есть ли бог, есть ли бессмертие?
А которые в бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца".
По справедливому замечанию одного из исследователей Достоевского, эти "вековечные вопросы" "русских мальчиков" о смысле жизни, о правде, братстве и справедливости пришли в русскую идеологическую жизнь XIX века отнюдь не от евангелия, но от утопического социализма.
И в действительности нередко оказывалось так, что рассуждение о боге у иных мыслителей оборачивалось мучительными раздумьями "о переделке всего человечества по новому штату".
Именно это позволило И.И.Крамскому повторить мысль П.М.Третьякова и сказать о Ф.М.Достоевском - он "был нашею общественною совестью", в какие бы дебри церковности ни заходил писатель.
В Толстом при всем его реакционном утопизме справедливо видели непримиримого обличителя социальных пороков общественного и государственного строя России, видели его мучительные поиски "смысла жизни", тревогу о простом человеке, заботу о духовном совершенстве и нравственной чистоте личности. В.Г.Короленко на вопрос двух его корреспондентов о Л.Н.Толстом очень точно заметил - это не религия, "он тщательно скрывает атеистические мысли в религиозной овечьей шкуре".
Во всей передовой русской культуре самым резким образом стояли реальные и злободневные вопросы жизни, поиски ее смысла, в какие бы одеяния они ни облекались, какие бы порой противоречивые формы ни принимали.
Передвижничество - органическая, неотъемлемая часть этого общего духовного движения. Его нервом была высокая нравственная требовательность, заставлявшая видеть в искусстве "учебник жизни", как выражался Н.Г.Чернышевский.
продолжение...
|