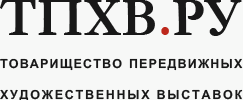|
Александра Боткина. Иван Крамской и Павел Третьяков, страница 3
Это письмо Павел Михайлович нашел на почте, зайдя туда перед отъездом. «Я очень рад был получить его, - пишет он, - и глубоко благодарен Вам, что высказываете свое душевное настроение, но только оно меня беспокоит. Я понимаю его, если тут причина смерть любимого ребенка; если же есть еще и другие, то очень Жаль. Приступая к серьезному труду, нужно быть непременно в бодром и твердом духе.
Я охотно бы пожертвовал жизнью за каждого из своих детей (это не слова), но жить желал бы как можно долее, даже если бы я был в совершенно другой обстановке. Человек должен и может устроить себе жизнь сносно; а разве не интересно жить уже для того, чтобы видеть, что еще будет делаться на свете.
Кстати, о моих средствах. Слово громадное весьма растяжимо; не говоря о фон-Мекках и Дервизах, в Москве многие много богаче моего брата, а мои средства в шесть раз менее моего брата; но я никому не завидую, а работаю потому, что не могу не работать. Я и здесь занят не менее Москвы, только дух спокойнее.
Если бы Вам нужно было меня видеть, то заехал бы на один день, но так, чтобы никто и не знал, что заезжал.
Сегодня уезжаю в Неаполь, через пять дней, никак не долее, будем в Ницце, там, вероятно, найду Ваше письмо.- Будьте здоровы и покойны».
Крамской написал в Ниццу, как того желал Павел Михайлович: «Нужно ли Вам приехать в Париж? Отвечаю, не нужно, как потому, что у меня нет ничего, и не нужно в том случае, если бы что-нибудь и было даже. Я спросил только так, из желания видеть Вас...».
Павел Михайлович заезжал в Ниццу навестить одного больного и, несмотря на то, что торопился возвратиться домой, не устоял против соблазна повидаться с Крамским. Павел Михайлович писал из Москвы: «Мы из Парижа до Москвы ехали безостановочно; в Берлине магазин, где мы оставили на сохранение свое теплое платье, был заперт; ожидая пока его отопрут пришлось бы пропустить утренний поезд и остаться до ночи; мы решили ехать в чем были, даже без теплых сапог, вот как хотелось скорее домой.
Приближаясь к границе было довольно холодно, а около Пскова мороз в 15 гр. В Петербурге имели время только забежать к Королеву купить теплые сапоги ну и ничего добрались до дома целы и невредимы».
Крамской вернулся в Россию почти следом за Павлом Михайловичем. Семейные дела заставили его бросить Париж и работу над картиной. Он исполняет ряд портретов для Павла Михайловича: Некрасова, Салтыкова-Щедрина, С.Т.Аксакова. Предполагаются и другие. Павел Михайлович пишет ему 7 мая 1877 года:
«Я не имею ничего против того, если бы Вы и сделали портрет А.Г.Рубинштейна, но так как мне близка к сердцу Ваша серьезная работа (она должна быть серьезная), а теперь время самое лучшее для нее, Рубинштейн же не такая огромная личность, чтобы уж так спешить с ним и к тому же мне желалось бы, чтобы Вы как можно с любовью окончили портреты Аксакова и Некрасова... то мне кажется, что Рубинштейна и Кольцова решительно нужно оставить до свободного времени. Извините, что я ввязываюсь все со своими советами, но не могу, что Вы прикажете делать».
«Благодарю Вас за Вашу заботливость обо мне, - отвечает Крамской,- и о времени, которое мне остается для картины. Ц послушаюсь Вас...». И летом Крамской пишет картину.
23 июля Павел Михайлович с горечью писал ему: «Я нахожусь в ужасно нервном состоянии гораздо худшем прошедшего лета, уже давно, со дня первых неудач наших на Кавказе и в Турции, а теперь все хуже и хуже. Азиатское дело пропало; если его я поправят опять, то пятно армянского избиения не смоется. На Европейском театре неудачи и поражения еще не так волнуют меня (конец венчает дело, говоришь, то есть стараешься успокаивать себя) как то, что мы заходили так далеко, обещали так много, а потом оставляем занятые места, как, например, Ловчу, зная, наверное, что жители, принимавшие нас с цветами,- будут немедленно вырезаны.
А тут кругом все то же детство и повальное малодушие. Не говоря о разных праздниках в пользу пострадавших от войны, мы в Кунцеве устроили бал - просто только в свое удовольствие и в день нашего поражения под Плевной - на этом бале были и веселились самые близкие мне люди».
Несмотря на тяжелое настроение, преследовавшее Павла Михайловича, он продолжает сильно интересоваться работой Крамского. В конце августа он предполагал побывать в Петербурге и повидаться с Иваном Николаевичем. Но тот предупреждает: «Может быть, захотите увидать картину, а потому я хочу довести до Вашего сведения, что картину я Вам показать в настоящую минуту не в состоянии... Через недельку увидит ее первый человек - моя жена и затем никто больше... Уже три месяца как я работаю, но с особым напряжением полтора и с ужасом помышляю о том времени, когда надо будет обратиться к своим обычным занятиям - портретам...»
Крамской пишет, что переделывает ночное освещение на утреннее. Он говорит, что пока не окончит картину, не примется ни за что другое, а будет считать ее конченной лишь тогда, когда ему удастся выражение ужасного хохота.
«Искренно благодарен за сообщенное кое-что о Вашей картине, - отвечает Павел Михайлович,- и о том настроении, в каком находитесь Вы. Без подобного духовного состояния не стоит и работать над вещами, требующими не одного механического труда, а самой души человека.
(Я очень мало говорил с Вами о Вашей будущей картине и потому содержание ее мне почти неизвестно, т.е. содержание, а не сюжет, как у нас говорится, не название, а идея и воплощение идеи; но я, признаюсь, сожалел, что Вы выбрали сцену происходившую ночью: огонь, по-моему, непременно мешал бы серьезному впечатлению картины, как бы ни был верно передан, еще другое дело раннее утро и огонь уже в пассивном состоянии; по теперь, так как оказалось, что огонь и не мог быть,- то и чудесно.)
Разумеется, для меня это будет событием - увидать Вашу картину, но я не желаю насильственно ускорять это событие, и потому, если бы мне и пришлось быть в Петербурге ранее назначенного Вами времени, то я и не зайду к Вам, а к тому времени нарочито приеду. Не зайду потому, чтобы не мешать Вам, а еще и потому, чтобы не ставить Вас в неловкое положение отказывающего - просящему. Впрочем, полагаю, что ранее 1 октября я и не могу быть в Петербурге. Желаю Вам всей душой хотя и энергичной, но покойной работы, чтобы ничто Вас не смущало, не расстраивало и не мешало бы должному духовному состоянию».
продолжение...
|