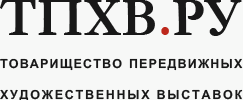|
И.Н.Крамской и портрет в Товариществе
В другом письме Крамской подчеркивает, что видит в этом символическом образе - политического деятеля, борца за социальную справедливость: «Пусть бы Христос делал чудеса, воскрешал мертвых, летал по воздуху, его бы оставили в покое; никто из власть имущих ... не стал бы ни нападать, ни защищать. Но совсем другой разговор, когда находится такой чудак, который будит заснувшую совесть».
Сверяя высказывания художника с самой картиной, советские исследователи русского искусства XIX века справедливо приходили к мысли, что перед нами, в сущности, олицетворение разночинца-демократа, изображенного в тот драматический момент, когда он решает вопрос о своем переходе в «стан погибающих за великое дело любви», знающего тяготы этой борьбы и преодолевающего внутреннее колебание.
Появление подобного полотна на одной из первых же выставок Товарищества очень показательно. Проблема социальной роли передовой интеллигенции как борца за освобождение народа была в эту пору чрезвычайно актуальной. Не случайно именно Крамской, который возглавил «бунт 14-ти», а затем стал одним из крупнейших деятелей передвижничества, выдвигает эту проблему в своем творчестве.
Правда, за десять лет перед тем картина Ге, которая, по словам Стасова, тоже олицетворяла в облике Христа борца за освобождение человечества, с его трагической судьбой, прозвучала как новое слово. Однако жизнь пульсировала быстро, и к началу 70-х годов полный отклик могло встретить только произведение, которое говорило бы о событиях и идеалах современности, не одеваясь в костюм прошлых веков. Сам Крамской в одном из своих писем пишет: «Мне говорят - время изображения его уже прошло».
И это было верно. Ярошеико, Вл. Маковский, Репин шли именно таким путем. Но Крамской так и не сумел, обращаясь к этой теме в сюжетных композициях, переступить за круг евангельских мотивов, и в этом причина трагической для него неудачи его последней картины, «Хохот», которую он писал «кровью сердца».
Однако было бы ошибочно считать «Христа в пустыне» творческой неудачей художника: картина, не лишенная художественных достоинств, имела весьма серьезный резонанс и у коллег и у зрителей. Другое дело, что речь художника более свободна, естественна и богата оттенками в цикле его портретов современников - товарищей по кисти, писателей, деятелей науки, - написанных в 70-х годах.
В этом цикле есть много общих «родовых» черт с портретами Перова. Это тоже полотна, лишенные парадности и репрезентативности, портреты психологического звучания. Но они содержат и ряд существенных индивидуальных отличий. Крамской лаконичнее Перова. Поясной срез, почти полная отрешенность от конкретных деталей одежды и обстановки освобождают большинство портретов Крамского от всякого оттенка бытовизма. Художник совершенно безразличен к аксессуарам, к характеру одежды.
Он набрасывает костюм бегло, как бы желая как можно скорее избавиться от этого неизбежного этапа работы портретиста. Здесь сказывается не неумение, а нетерпеливое желание скорее уйти от вторичного и малозначащего. Все внимание художника сосредоточено на лице портретируемого.
Перов остро и порой дерзко подчерк тает характерные особенности, выразительные детали лица. Даже по портретам можно угадать его великолепный дар сатирика. Крамской тоже прекрасно ощущает характерные черты модели. Однако «Крамской никогда не впадает в резкость, никогда ничего не подчеркивает, не утрирует, не останавливается на деталях, на мелочах.
Главный тип лица, его отличительные жизненные особенности - этому приносится в жертву все, в связи с этим вырабатываются и детали», - отмечала современная критика.
Освещение в портретах Крамского обычно притушено. Источник его не ясен. В них нет ни резких контрастов света, ни четкой пластики форм, объемность которых почти не ощущается. Изображение органично возникает из цветовой среды фона.
Ощущение серьезной, глубокой, а порой и скорбной думы присуще большинству изображенных в этих портретах людей. Однако, и в этом важная особенность Крамского-портретиста, духовная сосредоточенность его героев лишена статичности, их мысль как бы кристаллизуется в процессе проникновенного дружеского общения с невидимым собеседником, на место которого зритель невольно ставит себя.
В серии портретов деятелей русской культуры мы снова встречаем, как и в «Полесовщике», ряд композиционных приемов, которые сообщают воплощенным в ней образам характер динамического общения со зрителем. Как и «Полесовщик», портреты Литовченко и Григоровича* как бы только входят в поле нашего зрения. По принципу, родственному «Полесовщику», дано в этих полотнах и положение торса, поворот головы и т.д.
У Литовченко ощущение динамичности усиливает жест руки, у Григоровича руки с очками опускаются, в то время как голова откидывается кверху, а глаза направляются книзу, на более низкого ростом собеседника.
Даже изображение смертельно больного Некрасова - направление его взгляда, жест обеих рук - говорит о том же моменте обмена мыслями, общения («Некрасов в период «Последних песен», 1877, Государственная Третьяковская Галерея).
Окружение в этих портретах в тех случаях, когда оно есть, интересует художника не как бытовая среда, а как среда, где протекает сам творческий процесс. Ощущение вдумчивого душевного общения со зрителем, напряженной работы мысли составляет главное обаяние лучших портретов Крамского. Оно особенно тонко и глубоко выражено в портрете Л.Н.Толстого (Государственная Третьяковская Галерея).
Крамской писал его впервые в 1873 году, по заданию Третьякова. Толстой был уже известен как писатель, но еще не выступал со своей религиозно-философской проповедью. Ни понятие «толстовство», ни сам термин этот еще не существовали, и Ясная Поляна еще не стала местом паломничества. Поэтому, когда, вскоре по приезде в Ясную Поляну, Крамской пишет о Толстом, что он «на гения смахивает», он выражает мнение, сложившееся у него в процессе личных бесед с писателем.
Толстой сидит глубоко задумавшись. Но и здесь Крамской прибегает к своему излюбленному композиционному приему, который содействует внутренней динамике образа. Фигура Толстого дана в трехчетвертном повороте. Лицо как бы неторопливо повернуто в фас, причем глаза вскинуты на невидимого собеседника, речь которого он внимательно слушает.
Темная, коротко остриженная борода и бакенбарды писателя почти сливаются с темным же фоном. Все лицо как бы в легкой полутени. Отчетливо видны, однако, умные и даже суровые глаза исподлобья и твердый склад рта. В аскетической строгости облика, в проницательном взгляде писателя, в самой цветовой гамме портрета, построенной на сочетании глубоких холодных тонов, ощущается внутренняя значительность, свойственная живому прообразу этого портрета.
Есть в облике писателя и оттенок мужественной скорби, но скорби «не о потере состояния», как выразился сам Крамской, а скорби гражданина, размышляющего о судьбах своей родины. Это та же скорбь, которая присуща и образу Салтыкова-Щедрина и некоторым другим портретным образам Крамского.
продолжение...
|